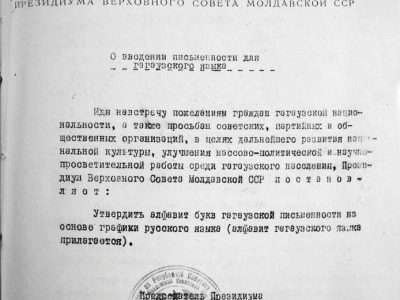Иван Пущин в Бессарабии. К 225-летию со дня рождения близкого друга Пушкина
Лицейский друг великого русского поэта Александра Пушкина, Иван Пущин (4/15.V.1798, Москва-3/15.IV.1859, Марьино, Московская губерния) родился в семье генерал-лейтенанта, генерал-интенданта флота, сенатора Ивана Петровича Пущина (1754-1842, Петербург) и Александры Михайловны Рябининой (1771-1841), дочери вице-адмирала. От нее – дочь Евдокия (1806-1860), ставшая женой Ивана Степановича Бароцци (1760-1822, Аккерман, Бессарабия). В 1820 – ей было 14 лет, мужу – 60. Потому его называли стариком, который «втрое старше ея». В 1814 – как предполагается исследователями, Пушкин посвятил ей стихотворение «Stances». Перевод с французского:
Видали ль вы нежную розу,
Любезную дочь ясного дня,
Когда весной, едва расцветши,
Она является образом любви?
Такою пред вашими взорами, но еще прекраснее,
Ныне явилась Евдокия;
Не раз видела весна, как она расцветала,
Прелестная и юная, подобная ей самой.
Но, увы! ветры и бури,
Эти лютые дети зимы,
Скоро зашумят над нашими головами,
Окуют воду, землю и воздух.
И вот уже нет цветов, и нет розы!
Любезная дочь любви,
Завянув, падает, едва расцветшая:
Миновала пора ясных дней!
Евдокия! любите! Время не терпит;
Пользуйтесь вашими счастливыми днями!
В хладной ли старости
Дано нам ведать пыл любви?
От Александры Михайловны – Иван, а также его братья и сестры – Екатерина (1791-1866), супруга И. А. Набокова, Анна (1793-1867), Мария (1795-1844) – с 1834 года супруга бывшего лицеиста И. В. Малиновского, Михаил (1800-1869), Егор (1802-1833), Николай (1803-1874), Варвара (1804-1881), Елизавета (1806-1860), Петр (1813-1856).
Муж Евдокии – Иван Степанович Бароцци был российским дипломатом, действительным статским советником. Иван (Джованни) Бароцци –родом из венецианских патрициев, грек из Наксоса. С 1789 – на русской службе. Коллегия иностранных дел направила его в армию к А. Г. Потемкину для дипломатических переговоров с Турцией. После смерти светлейшего князя он находился в Яссах при князе А. А. Безбородко. Служил в посольстве в Константинополе. С 1795 – пограничный комиссар в Каменец-Подольском. В 1800-1805 – генконсул в Рагузе, Венеции. А в ходе Русско-турецкой войны 1806-1812 годов был при М. И. Кутузове.
В свою очередь, Бароцци от первой жены Луизы имел сыновей – Антона (1777-1850), майора, с 1822 года полицмейстера в Бендерах, Якова (1786-после 1842) – полковника, с 1822 года полицмейстера в Сороках, дочерей – Анну, жену дипломата-серба, действительного статского советника в Кишиневе Федора Недобу (1770-1846), Марию, бывшую замужем за надворным советником Папандопулом.
После окончания Царскосельского лицея Иван Пущин был зачислен прапорщиком в батарею лейб-гвардии Конной артиллерии. С апреля 1820 – подпоручик, с декабря 1822 – поручик. Он вступил в тайное общество «Священная артель», основанное гвардейскими офицерами еще в 1814 году. В общество входили братья Александр и Михаил Муравьевы, Павел Колошин, Иван Бурцов, Владимир Вольховский, Вильгельм Кюхельбекер. Стал также членом Союза спасения и Союза благоденствия. Но в январе 1823 – вступил в конфликт с великим князем Михаилом Павловичем и был уволен из армии.
Верховный уголовный суд в 1826 году признал его виновным в умышлении на цареубийство, в личном участии в мятеже 14 декабря 1825 года и приговорил к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Пушкин писал ему в Сибирь: «Мой первый друг, мой друг бесценный…» Из ссылки Пущин смог вернуться только в 1856 году. В 1859 – опубликовал «Записки о дружеских связях с А. С. Пушкиным».
В этих «Записках» он, в частности писал:
«В генваре 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя: “Какой это Пушкин?” Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое.) Я тут ровно ничего не понимал; живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило. В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его; не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там, после служебных формальностей, я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицмейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицмейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: “Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу”. (Пушкин понял, в чем дело.) Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул: “Ah, c’est chevaleresque” (Ах, это по-рыцарски.), – и пожал ему руку. Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их к графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания. Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом. Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись. “Энгельгардт, – сказал ему государь, – Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем; но это не исправляет дела”. Директор на это ответил: “Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже – краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его”.
Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от Коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края. Проезжай Пушкин сутками позже, до поворота на Екатеринославль, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года. В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинев, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента Московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение».
Напомним, что Пушкин выехал из Петербурга 6 мая 1820 года. В Могилеве он был 11-12 мая, в Чернигове – 13-14, в Киеве – 14-15, а в Екатеринослав прибыл 17-18 мая. Разговор Пущина с фельдъегерем в Могилеве произошел после 12 мая, так как только 12 мая сгорело здание лицея и часть дворца в Царском Селе. Иными словами, Пущин выехал с выздоровевшей сестрой Евдокией из Бессарабии в первой половине мая 1820 года. Понятно, что за четыре месяца он довольно многое видел и слышал в Бессарабии. Но об этом не промолвил почти ни слова. Между тем, Бароцци с 24 августа 1818 года служил и жил с Евдокией в Аккермане до 1822 года, когда там и умер. Он был начальником Аккерманской карантинной портовой заставы. А в Кишиневе Пущин, несомненно, виделся с дочерями Бароцци, их мужьями, возможно, и с сыновьями Бароцци. В итоге, он довольно хорошо знал и Аккерман и Кишинев. Более того, в Аккерман из Кишинева Пущин следовал почтовым трактом вдоль Днестра, Днестровского лимана до Черного моря.
И. П. Липранди говорил, что
«в этом периоде времени проезжал через Кишинев и останавливался на несколько дней конносаперного эскадрона офицер Пущин, петербургский знакомец Александра Сергеевича. Он провожал сестру свою в Аккерман, она была замужем за стариком втрое ея старше, д. с. с. Бароцци. Дочь его, старше его жены, была в Кишиневе замужем за д. с. с. Федором Ивановичем Недобою, где Пущин и останавливался на три дня (И. И. Пущин проезжал Кишинев в начале 1820 года, когда Пушкина там еще не было); назад же проезжал через Одессу». Итак, на три дня Иван остановился в Кишиневе в доме действительного статского советника, председателя бессарабского областного Гражданского суда Ф. И. Недобы, который был женат на дочери И. Ф. Бароцци – Анне Ивановне. После 20 мая 1820 – Пущин был в Петербурге, где Е. А. Энгельгардт рассказал ему подробности высылки А. С. Пушкина, в том числе о своем разговоре о поэте с императором. Через четыре месяца, будучи уже подпоручиком, Пущин увез сестру «уже здоровою» из Аккермана в Петербург через Одессу. В Кишиневе Иван встречался с генералом П. С. Пущиным. В письме от 19 ноября 1858 года к декабристу С. П. Трубецкому он писал: «Если с вами играет в шахматы Павел Сергеевич Пущин, то, пожалуйста, обнимите его за меня. Он, верно, вспомнит наши встречи в Кишиневе в 820-м году». Опальный Пушкин мог видеться с Евдокией и ее мужем в Кишиневе в 1820-1821 годах и в Аккермане, где он побывал в декабре 1821 года. При ней находился Николай Евсеев, который по свидетельству Я. И. Бароцци, «взят был с малых лет второю женою отца моего урожденною Евдокией Ивановною Пущиною в Санкт-Петербург».
Поскольку из Аккермана в Петербург Пущин возвращался с сестрой через Одессу, то он следовал частично по тому маршруту, которым Пушкин проехал из Одессы в Михайловское в 1824 году. Но Пушкин в Киев не заезжал, а Пущин, скорее всего, и назад, в Петербург, следовал через Киев.
Пущин следил за судьбой опального поэта. И в «Записках» говорил:
«В 1824 году в Москве тотчас узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, нисколько не разрешая ее. С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии».
Встреча с Пущиным в Михайловском 11 января 1825 года стала настоящим праздником, потрясением для опального поэта.
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил…
«Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков, – вспоминал Пущин. – Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях… Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату… Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, – чуть не задушил ее в объятиях.
Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери – дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев… Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в “Северных цветах” и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым… Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из “Годовщины 19-го октября” 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое судейство:
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: “Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать”. Потом, успокоившись, продолжал: “Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, – по многим моим глупостям”. Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть… Я привез Пушкину в подарок “Горе от ума”; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати…»
Тут неожиданно пришел незваный гость, который поинтересовался тем, который именно Пущин посетил поэта. Не отставной ли генерал-майор П. С. Пущин, командовавший ранее 2-й бригадой в 16-й пехотной девизии М. Ф. Орлова в Бессарабии? Генерал Пущин был членом Союза благоденствия, членом Кишиневской управы Южного общества. В 1821 году в Кишиневе основал масонскую ложу «Овидий», членом которой был опальный Пушкин и из-за которой в 1822 году закрыли все ложи в России. Уволен «по болезни» в отставку 30 марта 1822 года. Однако истинная причина была связана с делом В. Ф. Раевского, которого напомнил Ивану Пущину Пушкин в Михайловском. И незваного гостя надо было опасаться.
«Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря. Я подошел под благословение. Пушкин – тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел faire bonne mine à mauvais jeu (Делать хорошую мину при плохой игре.) и старался уверить его в противном: объяснил ему, что я – Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу».
Наступило время прощания, время разлуки.
«Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы “Цыганы” для “Полярной звезды” и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические “Думы”… Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить: на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякнул у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: “Прощай, друг!” Ворота скрипнули за мной…»
Как видим, эта встреча в Михайловском в 1825 году была полна бессарабских свидетельств и воспоминаний, причем, подчас неожиданных и опасных. Надзор за опальным поэтом и теми, с кем он общался, не прекращался ни на день, ни на час.
Виктор Кушниренко, пушкинист