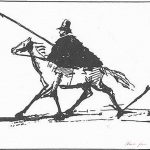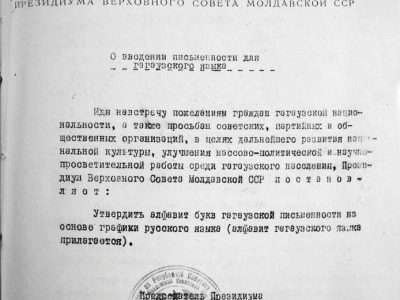Против турок с пикой наперевес: Пушкин на тропе войны и мира
Война не раз стучалась в сердце Пушкина. Она тревожила его не дни, а многие годы. Такова была эпоха.
Но мы часто говорим о нем, прежде всего, как о человеке мира. И при этом вспоминаем эти пушкинские строки, написанные в 1834 году:
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся…
И непременно вспоминаем Кишинев 1821 года, заметку Пушкина «О вечном мире».
«Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п… Они убедятся, что наше предназначение – есть, пить и быть свободными. Так как конституции, – которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным, – необходимо стремятся к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее чем через 100 лет не будет уже постоянной армии. Что касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого останется гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыслами победоносного генерала: у людей довольно других забот, и только ради этого они поставили себя под защиту законов. Руссо, рассуждающий не так уж плохо для верующего протестанта, говорит в подлинных выражениях: “То, что полезно для народа, возможно ввести в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат. Несомненно, идея вечного мира в настоящее время весьма абсурдный проект; но пусть вернутся Генрих IV и Сюлли, и вечный мир станет снова разумной целью; или точнее: воздадим должное этому прекрасному плану, но утешимся в том, что он не осуществляется, так как это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества”. Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, – революция. Но вот они настали. Я знаю, что все эти доводы очень слабы, и свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не одержавшего ни одной победишки, не может иметь никакого веса, но спор всегда хорош, так как способствует пищеварению; впрочем, он еще никогда никого не убедил, и только глупцы думают противное».
О вечном и всеобщем мире человечество мечтает столетиями – из поколения в поколение. И мне также казалось, что вот-вот – и наступит мир на земле, всеобщий, вечный. Но это не произошло в ХХ веке. Этого нет и в веке XXI.
В эпоху Пушкина было не менее сложно. И, если вдуматься, то вдохновенная, но короткая жизнь гениального русского поэта прошла на фоне почти бесконечных войн. Ее дыхание влияло на него, по крайней мере, с 1812 года по 1831. Иными словами – почти 20 лет. Хотя, если быть до конца честным, то надо вспомнить, что на юного Пушкина влияла и судьба его отца, который состоял в Комиссариатском штате: с 1802 года как комиссионер, с 1812-го – как военный советник. Влияли и новые друзья из числа участников войны 12-го года и заграничных походов. Но восемь войн и восстаний непосредственно связаны с его жизнью (1812-1814; 1821; 1828-1829; 1830-1831).
В 1829 году Пушкин, говоря о временах учебы в Царскосельском лицее в 1811-1817 годах, писал в «Воспоминаниях в Царском Селе»:
Среди святых воспоминаний
Я с детских лет здесь возрастал,
А глухо между тем поток народной брани
Уж бесновался и роптал.
Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас летят
И тучи конные, брадатая пехота,
И пушек светлый ряд.
На юных ратников завистливо взирали,
Ловили с жадностью мы брани дальный звук,
И, негодуя, мы и детство проклинали,
И узы строгие наук.
И многих не пришло. При звуке песней новых
Почили славные в полях Бородина,
На Кульмских высотах, в лесах Литвы суровых,
Вблизи Монмартра.
Лицеист, как и его друзья, ловил каждое слово об Отечественной войне 1812 года, о заграничных походах, победах и неудачах 1813-1814 годов.
В 1820 году Пушкин оказался в Южной ссылке – в Бессарабии, был не только свидетелем, но и летописцем восстаний под руководством Тудора Владимиреску в Валахии и Александра Ипсиланти в Молдове. В 1821 году поэт мечтал лично участвовать в войне России за освобождение греков от турецкого ига.
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений! –
Все ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть,
Кончину ль темную судил мне жребий боев?
И все умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь!.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела…
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?
Но Запад не позволил России вступить в войну с Турцией и помочь Греции обрести независимость. Как тут не вспомнить строки Пушкина об Александре I:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда…
По легенде, Пушкин совершил тайный поход в Яссы, лично был на Пруте летом 1821 года и стал свидетелем последнего героического Скулянского сражения греков, которое затем блистательно описал в повести «Кирджали».
А в 1828 году он и князь П. А. Вяземский подали прошение о желании присоединиться к Главной квартире Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, проходившей на просторах Бессарабии, Молдовы, Валахии, Болгарии и Турции. Вот как об этом вспоминает князь П. П. Вяземский: «В 1828 году Пушкин и князь Вяземский просили разрешения отправиться на театр войны. Отказ сообщен графом Бенкендорфом от 22-го апреля 1828 года, и мотивирован тем, что просятся многие, и что всем отказывают. Тогда же было отказано и Пушкину».
Вот это сообщение главного начальника III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии и командующего Главной Е. И. В. квартирой А. Ф. Бенкендорфа, а также ответ Пушкина.
«Я докладывал государю императору о желании Вашем, милостивый государь, участвовать в начинающихся против турок военных действиях; его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты». – «Искренне сожалея, что желания мои не могли быть исполнены, с благоговением приемлю решение государя императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство. Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я вероятно в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже».
Истинная же причина отказа раскрыта в письме Великого Князя Константина к Бенкендорфу от 27 апреля 1828 года: «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».
Получив отказ быть причисленным к Главной квартире, выехать в Париж, а позднее – отказ в том, чтобы следовать с посольством в Китай, Пушкин в мае 1829 года отправился на войну самовольно. Итогом его пребывания на Кавказе, на войне с Турцией стало его «Путешествие в Арзрум». А боевая сабля и ныне выставлена в его квартире на Мойке, 12.
Тогда-то и удалось Пушкину осуществить свое желание подраться с турками. Когда утомленные ночным 30-верстным переходом войска предавались послеобеденному отдыху, значительная партия курдов и дели, посланная Гаки-пашой, внезапно атаковала и потеснила передовую цепь казаков. Вспоминая этот эпизод, Пушкин говорит в третьей главе «Путешествия в Арзрум»: «19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. “Что такое левый фланг?”, – подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки попалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татаре наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем. Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое.
Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18, бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.
Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков.
Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться».
Но другие рассказывают иначе. По словам декабриста М. И. Пущина (младшего брата И. И. Пущина; гвардии капитан был лишен чинов и дворянства, разжалован в рядовые, отправлен на Кавказ, где прошел путь до поручика в 1829-м), поэт, услыхав выстрелы в цепи, вскочил на коня. Семичев и Пущин отправились на поиски и увидели его скачущего с саблею наголо против турецких наездников. К счастью, приближение улан с Юзефовичем, прискакавшим на выручку, заставило турок удалиться. По другому рассказу, Пушкин устремился против неприятельских всадников с пикой, взятой им у одного из убитых донских казаков. Опытный майор Семичев, посланный генералом Н. Н. Раевским-младшим вслед за поэтом, едва настиг его и вывел насильно из передовой цепи. Донцы были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и бурке.
Но наш герой не знал, что вслед за ним, 12 мая, на Кавказ генерал-майор барон Остен-Сакен отправил письмо к военному губернатору Грузии генерал-адъютанту Стрекалову: «Известный стихотворец, отставной чиновник X класса Александр Пушкин отправился в марте месяце из С.-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его имп. величества повелению состоит он под секретным надзором, то по приказанию его сиятельства графа Паскевича имея честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию».
Затем грянули трагические 1830 и 1831 годы восстания в Польше. Россия не ожидала, что поляки тайно и хорошо подготовят свои подразделения – и понесла большие потери. Пришлось сменить командующего. В тот момент Пушкин и вступил в сражение – на этот раз прозой и стихами. В письме к П. А. Вяземскому он писал: ««Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы внимания в пристрастия, нужны и для народов, и для правительств. Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention <невмешательства>, то есть избегать в чужом пиру похмелья; но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навяжется на нас Европа…».
Пушкин посвятил событиям тех дней три стихотворения – «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и вместе с В. А. Жуковским «На взятие Варшавы».
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От хладных финских скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Не встанет русская земля?
Так высылайте к нам витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Заключительные сражения в Польше были кровавыми – жестокими и беспощадными. Многие его участники ничего не писали об этом в мемуарах, не говорили о своих наградах. Но Европа не пошла на Россию войной.
Как видим, на тропе войны Пушкин был патриотом, настоящим гражданином своего Отечества. И не только своего отечества. Он был настоящим гражданином Земли. Его волновала борьба народов за свое будущее: национально-освободительные движения, революции, конституционные волнения и пр. Вот почему события 1821 года в Бессарабии, Молдове, Валахии, Болгарии, Сербии, Греции, Испании, Италии так тесно переплелись в десятой, засекреченной, сожженной главе «Евгения Онегина».
Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
И все же свое главное призвание поэт видел в служении миру на земле.
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
В поисках мирной и счастливой жизни на земле Пушкин отправился в глухое бессарабское селение – в Долну, посетил лесную цыганскую деревню, наполовину врытую в землю, несколько недель кочевал с шумным табором по молдавским селам и пустыням. Итог его скитаний был не утешительным.
… Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы –
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Виктор Кушниренко, пушкинист