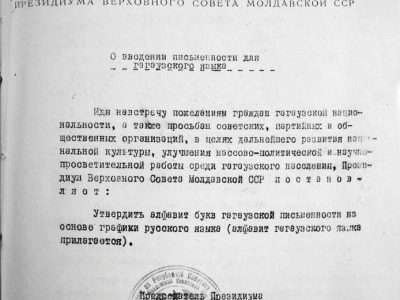Алексей Вульф, приятель Пушкина. От Петербурга и Бессарабии до Турции и Варшавы
Алексей Николаевич Вульф (17.XII.1805, Тригорское, Псковская губерния-17.IV.1881, там же), сын Прасковьи Александровны Осиповой от первого брака, соседки по имению Пушкиных. Двоюродный брат А. П. Керн. Воспитанник Дерптского университета, в котором в 1822-1826 годах он учился вместе с Н. М. Языковым, подружился с ним, а позднее – познакомил его с А. С. Пушкиным. Один из близких приятелей поэта.
Мечтал участвовать и отличиться в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов, и уйти в отставку увенчанным орденами. Этим пронизаны многие страницы дневника, начатого в 1827 году. Его он вел до 1842 года. Особую ценность дневник приобрел в связи с тем, что в нем содержится немало интересных фактов о тесном общении с Пушкиными, прежде всего, с Александром, его братом Львом и старшей сестрой Ольгой Павлищевой (ур. Пушкиной). И, разумеется, нам дорога каждая страница, связанная с его службой и пребыванием в наших краях.
Визит к Пушкину
15 сентября 1827 года Алексей навестил Пушкина в Михайловском. И дневник он начал вести забавы раду, от случая к случаю. Но этот визит он запечатлел с особым старанием. И, к нашей радости, сохранил для нас драгоценные мысли и планы великого русского поэта.
«16 сентября. Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался). По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu с “Bibliotheque de campagne” (“Сельской библиотекой” ) и “Журналом Петра I”, виден был также Alfieri, ежемесячники Карамзина и изъяснение снов, скрывшееся в полдюжине альманахов; наконец, две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгой такого общества, а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет – как Пушкин говорит – неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать “Годунова” с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею. В “Стеньке Разине” не прошли стихи, где он говорит воеводе Астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: “Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму”. Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его “Графа Нулина”: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп. Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: “Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову”. Играя на биллиарде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря”».
На фронт, на фронт…
Тем временем, в Петербурге Вольф читает газеты, следит за событиями в ходе войны с турками. 14 августа 1828 года:
«В армии ничего важного не делается, осаждают Силистрию, Варну и Шумлу».
«28 августа… 17 июня наши войска были все еще под Шумлою; Варна тоже защищается; под нею ранен ядром напролет мимо ног Меншиков, человек, отличающийся отличными способностями. Паскевич от Карса пошел вправо вдоль границы и взял две крепостцы Ахалканы: вот что известно о военных наших действиях. О турецких военных силах, расположении их и пр. мы ничего из ведомостей не знаем: что пишут в чужестранных, тому нельзя верить».
Вульфу не терпится самому принять участие в боевых действиях. И в Петербурге он использует все возможности для скорейшего определения его в армию.
«28 (сентября). Я получил от Адеркаса еще весьма приятное письмо с дружескими советами и наставлениями для предполагаемой будущей моей воинской деятельности; как жаль, что ими не могу теперь пользоваться, равно как и присланным мне рекомендательным письмом к Дибичу; но кто знает, что еще будет!»
«4 и 5 октября… Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму, взятую из истории Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери. – Стихи, как всегда, прекрасные, а любовь молодой девушки к 60-летнему старику и крестному отцу, Мазепе, и характер сего скрытного и жестокого честолюбца превосходно описаны. – Судя по началу, объем сего произведения гораздо обширнее прежних его поэм. Картины все несравненно полнее всех прежних: он истощает как бы свой предмет. Только описание нрава Мазепы мне что-то знакомо; не знаю, я как будто читал прежде похожее: может быть, что это от того, что он исторически верен, или я таким его воображал себе».
В дневнике зачастили записи о его встречах с Дельвигом и Пушкиным. Вульф часто посещает их дома, обедает там – особенно, у Пушкиных, что опровергает мнение о не гостеприимстве семейства поэта.
13 октября. Я отвечал Языкову, потом был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет в 3-х песнях и под названием Полтавы, потому что ни Кочубеем, ни Мазепой ее назвать нельзя по частным причинам. Казнь Кочубея очень хороша, раскаяние Мазепы в том, что он надеялся на паладина Карла XII, который умел только выигрывать сражения, тоже весьма истинна и хорошо рассказана. – Можно быть уверену, что П у ш к и н в этом роде исторических повестей успеет не менее, чем в прежних своих. – Обедал я у его отца, возвратившегося из Псковской губ., где я слышал много про Тригорское».
«26 (ноября). При мне получили Пушкины письмо от Льва из Тифлиса; как Надежда Осиповна обрадовалась ему, – если бы он это видел, верно, чаще и больше бы писал: смотря на нее, я думал: так и моя мать будет радоваться, когда я буду писать с Дуная. – Время приходит, что и мне пора будет ехать, расстаться со всем, что я знаю, что люблю…».
«29 декабря 1829 г. Сарыкиой. – Выезд из Петербурга 15 декабря 1828 г. – В прекрасную зимнюю ночь, по гладкому уезженному шоссе, в широкой кибитке поскакали мы, я с Петром Марковичем Полторацким, 15 декабря вечером, после 9 часов, из Петербурга. Несмотря на то, что я выезжал с намерением отправиться в армию, на Дунай, расставание для меня с столицей севера было совсем не тягостно; я не жалел об удовольствиях и спокойной жизни, которую я оставлял, зная, что первыми я не имею способов пользоваться вполне, а жизнь, которую я доселе вел, давно меня томила. Людей я тоже не оставлял, к которым бы я столько был привязан, чтобы разлука с ними меня очень печалила; одна Анна Петровна (А. П. Керн – В. К.) имела право на сожаление по ней. Софья Михайловна (жена Дельвига – В. К.), хотя и очень нежная со мною, всегда благосклонная ко мне, как к своему родному, – не занимала меня до той степени, чтобы мне очень тяжело было ее оставлять, – следственно, простившись очень нежно с Анной Петровной и с Софьей Михайловной, а с бароном очень дружественно (он рад был, что сбывает с рук опасного друга и оттого только смеялся над нежностями его жены со мною), я уехал в очень хорошем расположении духа…».
Но до мест сражений Вульф пока не доехал. Одна радость – в Петербург он вернулся с Пушкиным.
« (1829)(Сарыкиой, 20 февраля.) 16
января. Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков… На станциях, во время перепрягания лошадей, играли мы в шахматы, а дорогою говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и пр. П у ш к и н говорит очень хорошо; пылкий проницательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро; женщин же он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного. – Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, т. е. купив в Валдае баранков (крендели небольшие) у дешевых красавиц, торгующих ими, в Вышнем Волочке завтракали мы свежими сельдями, а на станции Яжелбицах ухою из прекраснейших форелей, единственных почти в России; приехали мы на третий день вечером в Петербург прямо к Andrieu (где обедают все люди лучшего тона). Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжение которого, несмотря на все, мы порядочно поели, запили мы каким-то, не помню, новым родом шампанского (Bourgogne mousseux (Бургундское пенистое), которое одно только месяц тому назад там пили, уже потеряло славу у его гастрономов). Я остановился у Пушкина в Демутовой гостинице, где он всегда живет, несмотря на то, что его постоянное пребывание – Петербург. Первым моим делом было, разумеется, переодевшись ехать к Анне Петровне и вместе к Дельвигу: живучи в одном доме, они неразлучны. Я нашел их дома и одних; никто не ожидал меня увидеть и полагали, что я уже поехал в Молдавию. Не знаю, что думал барон, а Софья и Анна Петровна были очень рады меня увидеть. Первая кокетничала со мною по-старому, слушая мои нежности и упрекая в холодности; другую же, как прежде, вечером я провожал ее до комнаты, где прощальным, сладострастным ее поцелуям удавалось иногда возбудить мою холодную и вялую чувственность… Случай мне тут помог: у Анны Петровны я встретился с г. М. С в е ч и н ы м, моим земляком по Тверской губ., знавшим коротко моего отца, и мне сватом по сестре его, которая была за моим дядей, а ко всему этому вдобавок, несмотря на 50 лет и 10 человек детей, волочившемуся за Анной Петровной. Он предложил мне свое ходатайство в Инспекторском департаменте. Я согласился на его предложение, обещавшее мне гораздо скорейший успех, чем представление Дибичу, которого я только мог увидеть еще через несколько дней, т. е. в будущую пятницу, его приемный день. И точно, через 4 дня, 24 января 1829 года (день, который мне навсегда останется памятен), я был зачислен на службу Е. И. В. в принца Оранского Гусарский полк, выбранный мной единственно по мундиру, ибо он лучший в армии (впоследствии я не мог раскаиваться в выборе оного), вольноопределяющимся до рассмотрения моих аттестатов и свидетельств о дворянстве. Окончив таким образом главное мое дело, занялся я обмундировкою и выполнением препоручений, мне данных, об разных покупках».
У Прута
Наконец, юнкер Вульф отправился в действующую армию и вскоре оказался в Бессарабии. Он пересек Бессарабию – от Могилева-Подольского на Днестре до Прута. Приехал в город в карете с генерал-майором артиллерии, служившим при великом князе Бибикове. 22 марта выехал из Могилева в Яссы. На коня он впервые сел в запрутском местечке Пашканы, где находился его полк.
«9 апреля 1829. Дневка в Турне Формозе. 7 апреля 1829 выступил принца Оранского Гусарский полк в поход из местечка Пашкале, и я, как юнкер оного полка, сел в первой раз на коня. По погоде судя, наш поход будет удачен, потому что дождь считают знаком благополучного пути. В карете можно так рассуждать, но на седле весьма неприятно просидеть целой день под мелким осенним (дождем), как это со мною было. Перейдя Серет, в верстах 3 от Пашкале, мы остановились: 4 действующих эскадрона, составляющих наш полк, построились четвероугольником, в середине поставили налой – и с коленопреклонением молили мы Бога победо помощи Его противу супостата… После молебствия был завтрак у полковника Плаутина, и, выпив его здоровье и здоровье новонагражденных орденами офицеров эскадрону, потянулись вперед по дороге к Яссам. Первой ночлег был в 10 верстах только. Я остановился в штабе полковом вместе с майором Денисьевым; нам отвели порядочную квартиру у одного арнаута, и провели вечер, твердя романс Беранжера “Souvenir d’un Capitaine”. На другой день погода делалась получше; мы пошли в доломанах, ожидая в Турче Формозе смотра дивизионного генерала, но, подошедши к местечку, мы узнали, что он будет нас смотреть не здесь, а в Яссах, а Дибич совсем не станет смотреть дивизию».
В Яссах, где Вульф находился с 24 по 28 марта, он задержался из-за хитроумного Денисьева. Они будут не один день догонять свой полк.
С полком Вульф продолжил поход до Фальчи, где вновь перешли Прут на бессарабскую, т. е. российскую сторону. Остановились в Ларге. Здесь Вульф впервые описывает Бессарабию. По всему, он тут больше говорит о пустынной и суровой Буджакской степи.
«Деревня Ларчи в Бессарабии. 21 апреля. Доехав до Васлуя, мы взяли почтовых лошадей и догнали вечером полк в деревне Доколесли. На другой день после большого перехода верст в 30 пришли мы в Фальчи, местечко на Пруте… Нам назначено было здесь для переправы через Прут 2 дня дневки, но мы остались только один… Итак, мы опять за Прутом, в православной России, но нельзя сказать, что в славном краю. Вся Бессарабия (которую я видел от Могилева до Скулян и до сюда) есть холмистая степь во всем смысле слова; хотя холмы ее и покрыты тучными прекрасными пастбищами, но вообще маловодна. Нигде не встречаешь следа хлебопашества – я по сю пору не видал паханой нивы, еще менее огородов или садов: кажется, железо никогда еще не раздирало здешних лугов; на них пасутся только стада рогатого скота и табуны, водимые гордыми жеребцами; орлы и неуклюжие аисты – единственные жители пустынь здешних…»/
Вульф далее сообщает, что из Ларги двинулись к Дунаю – через поле Кагульской битвы, дневали в Вулканештах, оттуда – к переправе через Дунай в Сатуново. Дунай перешли 28 апреля. Остановились у крепости Исакча за Дунаем.
За Дунаем
«Крепость Исакчи. 29 апреля… Из Ларги мы выступили 22 числа, дневали потом в деревне Волконешти, а оттуда, ночевав в Бульбонах , пришли 26 числа в Сатуново на Дунае, где мы стали не в квартерах, а лагерем… Мы не взошли в самую крепость Исакчи, а стали лагерем у самой переправы за редутами, прикрывающими оную. Лагерное место было выбрано преживописное: бригада занимала небольшую долину на самом берегу реки; она имела вид почти равностороннего треугольника, из коих каждая сторона была шагов в 600; к востоку, вправо, гора отделяла оную от tet e de pont, защищающий мост, а влево за такою же видна была крепость Исакчи; к северу же величественный Дунай катился между камышей, из-за которых зеленелась Бессарабия. Самая крепость Исакчи не стоит и названия крепости: это бедный городок, построенной на скате берега и обнесенной старой, развалившеюся стеною с довольно широким рвом…Невоздержанием Денисьев нажил себе опять лихорадку и гораздо сильнейшую, чем прежняя. Чтобы прервать ее, мы отстали опять от полка и пробудем здесь до 1 мая… Мне уже это отставание начинает надоедать…».
Из «Памятной книжки А. Н. Вульфа на 1829 год»:
«19 мая. Пришли в Козлуджу. 25 мая. Дело под Праводами. 29 мая. Дело Витгенштейнова полка с отступающим из Правод визирем. 30 мая. Разбитие визиря под Шумлою (19 конно-батарейная рота Бобылева решила дело). 31 мая. Кавалерийское дело нашей дивизии под Шумлою. 6 июня. Пошла наша дивизия в экспедицию за Шумлу к Джумае… 26 июля. Экспедиция нашего полка в Балканы к Джумае. 27 июля. Рекогносцировка ущелий близ Эски-Стамбула, где при атаке редутов князь Горчаков ранен и потерял (без нужды) более 100 человек. 28 июля. Нападение турок на наш корпус под Марашем; Ахтырский и Александрийский полки прогнали их; первой особенно отличился и 19 конно-батарейная рота».
«18 августа… Дней пять тому назад как возвратился из главной квартиры адъютант Мадатова Хомяков. Он пробыл 3 дня в занятом нашими войсками Адрианополе. Жители оного принудили 10-тысячный гарнизон сдаться без сопротивления. Паша, донося об этом султану, заключает тем, что впредь он приказания получать будет от графа Дибича… Вообще за Балканом мы нашли изобилие в продовольствии для армии…»
« Лагерь под Шумлой. 20 августа… Вот уже третий день, что я нездоров; в Янибазаре сделалась у меня сильная головная боль; вчера целый день был у меня жар, слабость и боль в костях, сегодня мне тоже немногим чем лучше. В моих обстоятельствах занемочь весьма неприятно. Я все еще не знаю, как устроить мое хозяйство: мне нужно или вьюки, или тележку и д е н ь г и, а по сю пору я даже не знаю, когда я могу надеяться их получить. Из России все еще нет слуху; не могу себе объяснить молчания: почта не может быть причиною 2-месячного молчания матери; а сестра отчего не пишет? Непонятно! грустно! Место, где наш корпус теперь расположен, весьма невыгодно: версты за три мы должны посылать за водою, дров тоже нет вблизи. Мне это тем неприятнее, что у Круш. оба человека нездоровы, а Арсений (слуга Вульфа – В. К.) не успевает наносить и на варенье кушанья воду. – Много мне теперь неприятностей. Но что делать: “взявшись за гуж, не говори, что не дюж”, – надо дослужить; кажется, Россия не лишится великого генерала, а история нескольких страниц о моих победах, если я выйду в отставку. О, самолюбивое честолюбие, ты меня здесь жестоко караешь! – Прощай, мечта славы, не обманешь ты более меня и не заманишь опять в твои пустыни, поросшие одним терном, где везде встречаешь разрушение и смерть! Если полковник точно меня представил, то он мне во всех отношениях много сделает добра. Офицерское жалование мне много поможет, – не то так мне трудно будет…».
Грустные мысли Вульфа были вызваны тем, что он понимал: война кончена, поход завершен не в турецком Адрианополе, и он остался без званий и наград. По получении известия о заключении мира полковник Красовкий взял Вульфа в свиту ординарцем и отправился в Шумлу на свидание с визирем.
У староверов
«Д. Сарыкиой, 4 ноября. Вчера, после двухнедельного похода, пришли мы сюда, в некрасовское селение Сарыкиой…».
Вульф прогулялся по селению Сарыкиой и подробно описал быт и жизнь некрасовцев, зарожцев – староверов, ушедших из России за Дунай.
«6 ноября. Сегодня я наряжен в караул на гауптвахту; пока еще не пришли сказать, когда идти, хочу я описать место, где мы сейчас стоим. Некрасовское селение Сарыкиой, состоящее из 200 дворов, 1 церкви и часовни, лежит от Бабадага в верстах 15, на берегу большого лимана Разена, на северной его стороне, против небольшого острова. Оно выстроено над довольно крутым берегом, от которого на несколько сот сажен простираются камыши, населенные множеством водяных птиц разных пород. Влево от деревни, за степью, в верстах 4, видны горы, идущие к Тульчи, а далее возвышенности, между Бабадага и Исакчи. Земля здесь, как почти во всей Бессарабии, с избытком награждает за труды; из прекрасного винограда делают здесь порядочное вино. Плоды и овощи были так дешевы прежде, что жители не занимались возделыванием земли; море доставляло им все в изобилии; заливы (лиманы) Черного моря и устья Дуная богаты рыбою, которая ловится и в наших реках, впадающих в это же море. Некрасовцы и запорожцы исключительно почти занимаются прибыточным рыбным промыслом и снабжают всю Молдавию и Валахию рыбою. – Они очень были довольны турецким правительством, которое, не собирая податей, довольствовалось казацкою службою в ближних городах. Управлялись они по сию пору миром и старшинами так же, как и у нас управляются селения. Вообще они сохранили все обычаи прежнего отечества своего, так же, как и язык, во всей чистоте. Точно так же, как запорожцы говорят малороссийским наречием, так они великороссийским. Об расколе их я еще не могу ничего более сказать, как то, что табак и чай равно считаются нечистыми; здесь есть церковь, но без священников: пастыри не уживаются здесь. Бродяги, забегающие сюда, обыкновенно спиваются через несколько недель, отчего они умирают или их выгоняют. Мне кажется, что здесь, несмотря на Шизму, народ так же, как и в православной России, не очень набожен».
Возвращение в Россию
Вульф подробно описывает путь по возвращению в Россию – через Янибазар, Козлуджу, Базардчик. 14 ноября утром он пережил довольно сильное для этих мест землетрясение.
«15 ноября… Вечер я просидел у Рудольтовского, где был и Рошет; мы говорили много про Петербург и с Рошетом про П у ш к и н а; он был со Львом и Павлищевым вместе в лицейском пансионе».
Чем ближе Родина, тем мучительнее размышления о несостоявшейся службе. Так не хотелось из этого похода возвращаться все тем же – юнкером.
« 25 ноября… Еще я прослужил лишний месяц юнкером. Наступил 11-й моей службы, а я и не предвижу моего производства; это мне ещё неприятнее ради домашних. Так-то исполняются в России законы, и так мои надежды! Это будет, однако, весьма занимательно, если еще несколько месяцев я не дождусь представления и возвращусь в Россию юнкером. Тогда я вправе буду сказать, что не счастливо служу. – Все это меня не заботило бы, если я скорей получил бы деньги».
Далее возвращение описано вдоль Черного моря – от Мангалии до Дуная. Ныне Мангалия – это один из лучших курортов Румынии. А тогда это прекрасное место разочаровало Вульфа тем, что тут необычайно тихое море.
«17 декабря… Из Базарджика в два перехода пришли мы к крепостце М а н г а л и я. Хотя в наших реляциях прошлого года и слывет она крепостью, но это потому только, что и теперь есть еще остатки рва и вала, некогда окружавшего маленький этот приморский городок, – теперь она почти совсем разорена и опустошена чумой. Гарнизон, больные, бывшие в ней, – все вымерло; кое-где только между развалившихся мазанок опять начинают селиться возвращающиеся болгары и турки. Она служила ссылочным местом для турок точно так же, как Кистенжи и другие города по этому берегу моря. Мангалия выстроена на красивом месте: над морем, а к югу над лиманом, хотя и не широким, но далеко впадающим на берег. Дорога, по которой мы пришли к ней, лежит на песчаной косе, отделяющей этот залив от моря. – Давно я желал взглянуть на любимую, и им прекрасно воспетую, стихию албанского певца, но Черное море не исполнило мое ожидание. Я не нашел ни пенящихся бурунов, ни с оглушающим шумом о берег и скалы разбивающихся валов, – оно похоже более на большое озеро; на песчаном берегу едва приметен гребень волны, который, загнувшись, упадает опять в нее: только по зелени их, переходящей, отдаляясь от берега, в синеву, узнаешь море…».
Новый Год Вульф встретил на чужбине.
«1 января. 1830 г. Вот и новый год. Вчера неожиданно я его встретил шампанским. Проспав целый вечер, я проснулся уже в часу 9; напившись чаю, я писал продолжение моих петербургских записок».
Вульф говорит о причинах предстоящего длительного нахождения в Бессарабии.
«15 марта. Теперь известно время перехода нашего за Дунай: 15 апреля мы вступаем в пределы Российской Империи, но, к несчастью, мы не идем прямо на временные наши квартиры, а будем до июня месяца объедать разные магазейны бессарабской области, дабы съестные запасы в оных не пропадали. Очень неприятно в бессарабских степях несколько месяцев кочевать цыганами, быть саранчою. Только в конце июня предполагают, что мы перейдем Днестр… 20… Маршрут нашей бригаде получен. Выступив 15 апреля, мы идем в Р е н и, лежащее при устье Прута в Дунай; там мы будем объедать магазейн; как долго? – неизвестно. Перейдя Дунай, мы поступим под начальство Воронцова. Возвращение нашей дивизии в Киевскую губернию не будет тоже так скоро, как мы ожидали: ей назначено прежде съесть большие запасы, заготовленные в Рени, Мове и Скулянах. Вот неожиданные и очень неприятные новости: в Бессарабии во всех отношениях очень неприятно и невыгодно нам будет простоять весну, – лучше уж бы было здесь стоять: по крайней мере, мы здесь получали бы жалование серебром».
«7 мая. Вчера получил я письмо от Анны Петровны; кроме обыкновенной своей любезности – всегда новой – и нежной любви ко мне, покуда всегда постоянной, она ничего мне нового и занимательного не сообщает. Софья Михайловна тоже меня не забыла – вероятно, потому, что все еще с Анной Петровной в тесной связи – дружбе, как они называют… День в день мы почти пробыли год за Дунаем, ибо 26 мая, когда мы в 29-м году пришли в Сатунов, и нынче, перешед Дунай, прибыли мы туда же. По только что наведенному мосту мы благополучно переправились и, сделав два перехода от Сатунова, пришли сюда, чтобы здесь выдержать 21-дневный карантин; дни, которые мы были в оцеплении при переправе, включены в это число.
Перейдя через мост, шли мы версты с две по плотине, которая тянется вдоль берега реки. Около нее лежало до 20 кораблей греческих, турецких и английских, шедших в Галац, которых не пропускали через мост из опасения, чтобы они опять его не разорвали. Многие из них наполнены были гречанками, как говорят, освободившимися из неволи или гаремов, ехавшими в Молдавию. Во все время моего пребывания в здешнем краю я не видал так много прекрасных лиц, – может быть, только по отдалению они казались такими. Многие из нас сожалели, что издали только можем любоваться этими восточными красавицами, – я не исключаю себя из числа, – хотя я и телом и душою почти отвык от женщин. Наш лагерь расположен на прекрасном месте, вправо от местечка, которое я видел покуда только издали, проходя мимо него, у самого впадения Прута в Дунай. За ним, прямо перед нами, зеленеются лесистые горы Булгарии (увидев их в первый раз, я не ожидал, что сойду с них, так как я теперь сошел на бессарабскую степь, – разумеется, в отношении к моей службе), вправо за камышами Прута видна Молдавия, на равнинах которой белеются мечети Г а л а ц а, одного из важнейших торговых городов на Дунае. Сколько местоположение нашего лагеря хорошо, столько невыгодно качество земли оного…»
Тут надо заметить, что Вульф был любвеобильным, если верить его современникам. Но не все восточные красавицы возбуждали в нем, как упомянутые гречанки. О местных он совершенно недавно заметил в дневнике:
«Здешние женщины ко мне, кажется, не очень благосклонны; хотя я и ни за которой не волочусь, но это видно, что не успел бы я у них. Никогда не занимавшись этим классом, я совершенно не умею с ними обращаться. – Некоторые из них, однако, стоили бы труда».
Мирная жизнь в Бендерах
Прибыв в Бендеры на карантин, Вульф сообщает, что из Рени они шли через Болград и немецкие колонии. Поход через Бессарабию ему понравился тем, что стояла прекрасная погода, а вечера и ночи напомнили родину.
«28 мая. Бендеры… Поход наш Бессарабиею был не труден; не дела я больших переходов, утомительных в здешнем краю от жару, мы пользовались во все время прекраснейшею погодою: довольно сильные северные ветры постоянно прохлаждали дневной зной, вечера же были всегда тихи и так же хороши почти, как наши северные, лунное сияние делало их столь же светлыми. – Эта часть Бессарабии столь же пустынна, как и те части сей области, которые я прежде видел, а именно: от Могилева до Скулян и берега Прута, от Фальчи до Сатунова. Мы шли теперь на Болград и немецкие колонии, поселенные к северу от него».
«Карантин при Бендерах. 7 июня. От совершенного бездействия терплю я теперь несносную скуку; от жару, от образа нашей жизни я не имею одной минуты в день, хотя и совершенно ничего не делаю… 14 июня. Между несколькими пакетами, которые сегодня один из карантинных чиновников держал в руках, когда я к нему подошел с тайным ожиданием найти между ними одно ко мне, внимательный и быстрый мой взгляд открыл тот знакомый предмет, а именно: большой пакет в 8-ю долю листа, обертка которого была из толстой, серой шерстяной бумаги. По этим предметам я не мог ошибиться в том, что вижу передо мною одно из периодических произведений нашей литературы, – и точно, через разорванный оберток я увидел знакомый лиловый цвет обертка и форму литер “Московского телеграфа”. Ах, как я рад был неожиданной встрече с моим старым знакомцем, которого я читал всегда с большим удовольствием! К несчастию, я не мог воспользоваться оною, карантинные правила не дозволяли мне прикасаться к предмету моей радости…»
Наступило счастливое время службы. Здесь, в Бессарабии, 5 мая Вульф получил Высочайший приказ о его производстве в корнеты. 26 июня – закончился карантин в Бендерах. В тот же день он за Днестром – в России. 27 июня – пришли письма и деньги от матери и сестры. Сестра пишет, что Пушкин женится на первостатейной московской красавице.
В пределах России
«Херсонская губ., 28 июня, деревня Шип. Вступление мое в пределы отечества было ознаменовано для меня многими неожиданными случаями. В один день, 26 июня, я освободился от карантина, вступил в Россию и получил приказ (Высочайший) о производстве меня в корнеты, последовавший 5 мая; на другой же день я получил письма от матери и сестры, от каждой по два, наконец 87 червонцев денег… Сестра сообщает мне любопытные новости, а именно две свадьбы: брата Александра Яковлевича и Пушкина на Гончаровой, первостатейной московской красавице. Желаю ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, то тем вероятнее, что его первым делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся. Письма сестры печальны и от того очень нежны; она жалуется на судьбу, и точно, жизнь ее вовсе не радостна».
В Балте Вульф устроил обед с шампанским по случаю его производства. В Тульчине сшил себе новый сюртук и посетил театр.
«20 августа. Вот прошел год, что я продолжаю почти непрерывно мой дневник – единственное занятие, которое я называю дельным. В 32 листах, мною написанных, мало любопытного: они заключают в себе одни описания нужд и неприятностей, перенесенных мною, и впоследствии будут для меня замечательны, как живое изображение постепенного разочарования».
«23 августа. Вчера – день царевенчания – напомнил мне, как я провел первый в 26-м году. С тех пор каждый из них встречал я совершенно в разных обстоятельствах, в разных краях. В 27-м, отдыхая от студенческой жизни, я провел оный день в безмятежных наслаждениях домашней сельской жизни, приправленной любовью и богатыми надеждами будущего; в 28-м – в столице, уже пресыщенный любовью, томимый желанием воинской славы и только что вступивший в гражданскую службу; в прошлом, 29-м, под высотами Шумлы, громимой батареями нашими, в крайней нужде, с ежеминутными неудовольствиями, с обманутыми надеждами и с отрезвленным от самолюбия рассудком; вчера же – с духом более успокоенным, вышедшим из крайностей, но все удрученным обстоятельствами».
Наступила мирная жизнь, о которой так мечталось в походе. Вульф, наконец, откровенно говорит о своих отношениях с Анной Петровной Керн.
« (1830)17 октября. Возвратясь из Сквиры, вот два дня как я живу почти не выходя из моей хаты, окруженный присланными мне матерью “Литературной газетой”, издаваемою Дельвигом и Сомовым, их же “Северными цветами” на этот год, “Телеграфом” и письмами из дому и от Анны Петровны. От чтения первых я перехожу к занятию последними, на которые я уже приготовил ответы к завтрашней почте. С матерью и сестрою я говорю почти только о моей нужде в деньгах, а с Анной Петровной об ее страсти, чрезвычайно замечательной не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов, сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Про сердце женщин после этого можно сказать, что оно свойства непромокаемого, imperméable (Вяземский), – опытность скользит по ним. Пятнадцать лет почти беспрерывных несчастий, уничижения, потеря всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце, или воображение, – по сю пору оно как бы в первый раз вспыхнуло. Какая разница между ей и мною. Едва узнавший, однажды познавший существо любви, – в 24 года я, кажется, так остыл, что не имею более духу уверять, что я люблю!!»
Вновь на службе
Но от службы никуда ни деться. Тем более, что в Польше разгорается бунт. Поход для усмирения поляков Вульфу не по душе. Он вновь задумался об отпуске.
«(1831). 27 февраля. Майор князь Трубецкой, недавно к нам переведенный из гвардии и которого посылали в Дубно курьером, привез сюда известие о втором деле, решившем судьбу армии бунтовщиков. Оно было также весьма кровопролитно и кончилось совершенным рассеянием оной на малые партии. Потеря с нашей стороны была очень значительна. Генерал от артиллерии Сухозанет умер от ран; даже говорят, будто бы и Дибич ранен… 28 февраля. Этот поход мне не по душе; я готов сделать все возможное, чтобы избежать оного. Нужно же для этих безмозглых дураков переносить мне неприятности, которым совершенно все равно, Хлопицкой ли или Константин с ними возится. Ах, когда бы мать согласилась на мою отставку, я был бы спокойным зрителем теперь, а не страждущим членом…».
Надежды Вульфа не сбылись – он с полком вступил в пределы Царства Польского.
«10 июня. Царство Польское, лагерь при местечке Грубешове… Из новостей самая любопытная, самая неожиданная и вместе печальная – есть известие, что главнокомандующим действующей армиею назначен граф Эриванской и что предместник его не перенес удара, а на другой день по получении сего известия скончался. – Это происшествие так важно, что я ничего не смею сказать об оном, не зная подробностей. Одно только мне кажется странным: как сместить человека как бы неспособного, недавно еще славимого героем, поставленного на высшую степень величия гражданского. После такой переменчивости может ли поступивший на его место быть уверен, что его при первом несчастьи также не столкнут? Теперь остается нам одно: желать, чтобы Паскевич оправдал доверие, которое к нему имеют, – тогда в короткое время забудут о существовании мужа, восстановившего честь нашего оружия за Дунаем…»
Встречи с Пушкиными в Варшаве
После отпуска Вульф вернулся на службу в Варшаву. Тут он свой досуг проводит в кругу близких знакомых – Льва Пушкина и Ольги Павлищевой (ур. Пушкиной). От него мы узнаем, как жилось сестре и брату Александра Пушкина.
«(1832).10 июня. В Варшаву ехавши (после отпуска – В. К.) я ожидал найти здесь кучу удовольствий, но чрезвычайно ошибся, потому что никаких не нашел, кроме встречи с двумя или тремя молодыми людьми. Из них Лев Пушкин, с детства мне знакомый, более всех других меня утешает. С ним я говорю об домашних моих, об поэзии и поэтах – наших друзьях, об любви, в которой мы тоже сходились к одному предмету, и даже о вине и обеде, которым он искушает мой карман».
«13 октября. На этих днях приехала из Петербурга давно ожидаемая Ольга Сергеевна Павлищева. Я чрезвычайно обрадовался ее приезду как ради удовольствия видеть ее, так и потому, что с нею я могу говорить обо всех лицах, меня некогда занимавших в Петербурге. Она не переменилась, сколько я замечаю; мила и забавна, как была прежде до своей болезни. Вечера у ней будут для меня верным убежищем от скуки. 16 октября. У Павлищевых я обедал вчера и провел остаток дня. Ольга мила, как всегда; но сегодня что буду делать?»
«(1833). 20 февраля. Понедельник… Из Варшавы выехал я довольно удачно. Потеря в надежду получить там деньги, не видя возможности без больших неприятностей, то есть занимая у приятелей деньги, долее так существовать, сел я в отправляющуюся оттуда новую коляску Плаутина, деланную под моим надзором, и пустился в путь. С Варшавой мне не было очень трудно расставаться, потому что, кроме Льва Пушкина и Ольги Сергеевны, да еще доброго обеда у старика Chovot ничего для меня там не было привлекательного…».
«5 (27) июня. С большим удовольствием перечел и сегодня 8-ю и вместе последнюю главу “Онегина”, одну из лучших глав всего романа, который всегда останется одним из блистательнейших произведений Пушкина, украшением нынешней нашей литературы, довольно верною картиною нравов, а для меня лично – источником воспоминаний весьма приятных по большей части, потому что он не только почти весь написан в моих глазах, но я даже был действующим лицом в описаниях деревенской жизни Онегина, ибо она вся взята из пребывания Пушкина у нас, “в губернии Псковской”. Так я, дерптский студент, явился в виде геттингенского под названием Ленского; любезные мои сестрицы суть образцы его деревенских барышень, и чуть не Татьяна ли одна из них. Многие из мыслей, прежде чем я прочел в “Онегине”, были часто в беседах глаз на глаз с Пушкиным в Михайловском пересуждаемы между нами, а после я встречал их как старых знакомых. Так в глазах моих написал он и “Бориса Годунова” в 1825 году, а в 1828 читал мне “Полтаву”, которую он написал весьма скоро – недели в три. Лето 1826 года, которое провел я с Пушкиным и Языковым, будет всегда мне памятным как одно из прекраснейших. Последний ознаменовал оное и пребывание свое в Тригорском прекрасными стихами и самонадеянно прорек, что оно “…из рода в род, / Как драгоценность, перейдет, / Зане Языковым воспето”».
Наступил день, когда Алексей Вульф вышел в отставку штаб-ротмистром.
Он делает необходимые покупки. Прощается с Ольгой Павлищевой, которая сожалеет о вынужденной разлуке, со Львов Пушкиным, который проиграл в карты все деньги, наделал долгов.
«28 августа (9 сентября)… Ольга Сергеевна, по-видимому, ко мне очень благорасположена: это видно не только из всего обращения со мною, но еще более по довольно забавному предложению, которое она мне недавно сделала: она просила меня как можно более публично заниматься ею по той причине, что в варшавском кругу ее знакомых говорят, что будто бы она кокетничает с одним юношей – господином Софиано, который, кажется, влюблен в нее. Л е в – все тот же, свою скуку мыкающий в Саксонском саду или Розмайтостях и, к несчастью, в совершенном безденежье. Он имел неосновательность проиграть не только все деньги, которые он получил от отца и занял от других, но даже более, чему трудно помочь».
«17 (29) октября. Вторник… Одно утешение моей жизни здешней – это Ольга Сергеевна. Она истинно, кажется, ко мне расположена дружески. Третьего дня была она со мною так откровенна, что не только читала мне свои стихотворные произведения , но и сказала, что меня так любит, что сожалеет, зачем я не женщина, чтобы со мною быть еще откровеннее».
В родном Тригорском
Родное Тригорское стало последним пристанищем Алексея Вульфа после его 10-дневного пути из Варшавы. Наконец, он в объятиях всех родных.
«20 ноября. Тригорское. Исполнились мои желания: возвратился я в дом отцов моих, к жизни новой, единственной оставшейся мне на выбор после испытанных. Непривлекательная она, не заманивает она наше воображение ни разнообразием, ни прелестью видов. Один постоянный труд может сделать ее сносною, может укротить не вовсе еще потухшие страсти – честолюбие и жажд у наслаждений. Испытаем ее! После десятидневного пути от Варшавы, довольно благополучного, без особенных происшествий, с обыкновенными неприятностями путешествия в такое время года в скромном перекладном экипаже, приехав, нашел я всех моих домашних – мать и сестер замужних и незамужних – здравствующими: это все, чего я только и желал. Несмотря на тяжелый от общих неурожаев год, кажется, и хозяйство не в нужде, по крайней мере, сколько мне известно про оное: также важна я причина к общему удовольствию. 23 ноября. Четверг. Я застал еще здесь отцов Пушкиных, собиравшихся в путь ко Льву в Петербург, и которые радовались моему приезду, как радуются приезду родного. Провожал их до Врева – баронское владение Евпраксеи … Хотя я и нисколько не сожалею о том, что оставил службу военную, и не желаю снова начать гражданскую, разве в таком случае, что представились бы мне в какой-либо особенные выгоды, – но все сельская жизнь землепашца, помещика пугает меня своим однообразием и отчуждением от движущегося и живущего мира. Я уже решил, что, хотя присутствие мое в тверской деревне и необходимо нужно, жить там один постоянно я не намерен, тем более что это вовлекло бы меня в большие издержки, чем доходы наши это позволяют: должно бы было тогда жить двумя домами, двумя хозяйствами. Мои желания теперь ограничиваются тем, что, узнав настоящую цену и доходы имения, мне бы удалось найти управителя, которому бы можно было поручить оное под собственным моим надзором, а самому, живучи здесь в Тригорском, разнообразить мой быт хоть кратковременным пребыванием в одной из столиц».
Из Тригорского, для разнообразия жизни, Вульф приезжал в Петербург.
«(1834)19 февраля. Понедельник. Кроме удовольствия обнять Анну Петровну после пятилетней разлуки и найти, что она меня не разлюбила, несмотря на то что я не возвращался с нею к прежнему нашему быту, имел я еще и несколько других, а именно: познакомился с двумя братьями моего зятюшки Бориса – с баронами Михаилом Сердобиным и Степаном Вревским, людьми очень милыми в своем роде; потом представлялся я родственницам и приятельницам матери – госпожам Кашкиным, на свидание с коими мать теперь поехала туда же; рад я был видеть и недоступных Бегичевых, из коих старшей я подрядился чинить перья; наконец, у стариков Пушкиных в доме я успел расцеловать и пленившую меня недавно Ольгу. Вот перечень всего случившегося со мною в столице севера, если я прибавлю еще то, что видел моего сожителя варшавского Льва Пушкина, который помешался, кажется, на рифмоплетении; в этом занятии он нашел себе достойного сподвижника в Соболевском, который по возвращении своем из чужих краев стал сноснее, чем он был прежде. Я было и забыл заметить также, что удостоился я лицезреть супругу А. Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел мал о изменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи».
Образ друга Пушкин еще в Михайловском запечатлел в стихах.
Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат
(Не михайловский приказчик),
Привезет нам, право, клад…
Что? – бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи!
Чудо – жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света…
Виктор Кушниренко, пушкинист