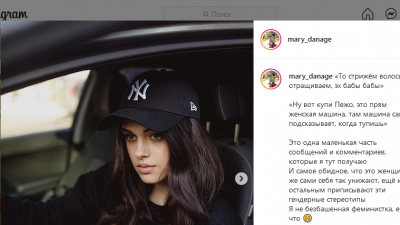«Приехав в Кишинев, я пошел в главную квартиру». Верещагин в Бессарабии, Румынии и Болгарии
Василий Васильевич Верещагин (14/26.X.1842, Череповец, Новгородская губерния-31/12.III.1904, Порт-Артур) – один из самых известных русских художников-баталистов, живописец, литератор.
Родился в многочисленной семье вологодского предводителя дворянства. Окончил Морской кадетский корпус, но вскоре вышел в отставку мичманом и поступил в Академию художеств в Петербурге. С 1865 года продолжил учебу в Парижской академии. Боевое крещение все же получил – в Самарканде, прапорщик был награжден орденом св. Георгия 4 ст. (1868). Его «Туркестанская серия» имела огромный успех в Европе. Но выставка 1874 года в Петербурге разочаровала императора Александра II и будущего императора Александра III. Расстроенный художник уничтожил сразу несколько своих картин. Жил в Индии, Франции. Узнав о предстоящей русско-турецкой войне, осенью 1876 года добровольно подал прошение, а в апреле 1877 года 35-летний художник был причислен к составу адъютантов главнокомандующего Дунайской армией великого князя Николая Николаевича с правом свободного перемещения в войсках и отбыл в главную квартиру армии в Кишинев. Участвовал в нескольких сражениях. При штурме Плевны погиб его брат Сергей. В июне 1877 года сам был тяжело ранен. По его просьбе, зачислен наблюдателем миноносца «Шутка» на Дунае. Вновь ранен – в бедро. Создал «Балканскую серию». После путешествия по Индии, Сирии, Палестине, США, Филиппинам, Кубе, Японии вышли его новые серии картин. Участвовал в русско-японской войне, погиб вместе с адмиралом С. О. Макаровым при подрыве на мине броненосца «Павловск» на внешнем рейде Порт-Артура. Автор 12 книг и множества статей, в том числе «На войне: Воспоминания о русско-турецкой войне в 1877 года».
В очерке «Турецкий поход. На Дунае» и других он писал о Кишиневе, Скобелеве-отце и Скобелеве-сыне, о сочинении стихов, о Дунае, Галаце, Бухаресте, Журже, о своем ранении и лечении, о сражениях в Болгарии за Плевну, Шипку, вхождении в Адрианополь:
«Знакомый уже с характером азиатских кампаний, я хотел познакомиться и с европейскою войною, ввиду чего приятель мой, бывший генеральный консул в Париже Кумани, своевременно списался через нашего общего знакомого барона Остен-Сакена с начальством главной квартиры собранной в Бессарабии армии, и мне предложено было состоять при особе главнокомандующего.
Приехав в Кишинев и переодевшись в плохонькой гостинице, я пошел в главную квартиру (штаб армии размещался в известном доме Картажи на Каушанской, прямо за Кафедральным собором, а ближайшая гостиница «Петергоф» стояла на углу улиц Каушанская и Пушкина – В. К.). Добрый генерал Галл представил меня г-дам Непокойчицкому, Левицкому и др., а также, к большому моему удивлению, молодому генералу Скобелеву. “Я знал в Туркестане Скобелева”, – говорю ему. “Это я и есть!” – “Вы! Может ли быть, как вы постарели; мы ведь старые знакомые”. Скобелев порядочно изменился, возмужал, принял генеральскую осанку и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро переменил в разговоре со мною на искренний, дружеский тон.
Он только что приехал. Над его двумя Георгиевскими крестами, полученными в Туркестане, подсмеивались и говорили, что “он еще должен заслужить их”. Я хорошо помню, что эта последняя фраза понравилась в главной квартире и повторялась, так же как и высказанная одним молодцом уверенность, что “этому мальчишке нельзя доверить и роты солдат”.
Узнав, что я пойду вперед вместе с отцом его, Михаил Дмитриевич просил ему передать о скором своем приезде – он был назначен начальником штаба к отцу Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему передовою казачьего дивизией, – назначение, не особенно почетное для генерал-майора с Георгием на шее, командовавшего перед этим областью и небольшою армиею!
Отряд Скобелева-отца состоял из полка донцов и полка кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с ингушами в другой. Первой бригадой командовал полковник Тутолмин, неглупый, добрый человек, истый кавалерист, большой говорун; второй – полковник Вульферт, георгиевский кавалер за Ташкент, куда он первый вступил при штурме.
Насколько Тутолмин любил говорить речи, настолько Вульферт любил молчать.
Полковыми командирами были: у донцов Денис Орлов, живой и симпатичный, хороший товарищ; у кубанцев Кухаренко, сын известного на Кавказе генерала, сам имевший вид бравого кавказца, оказавшийся впоследствии болезненным, нервным. Владикавказцами командовал полковник Левис, полурусский, полу швед, толстый, красный, добродушный и бравый, – словом, претипичный воин. Его интересно было наблюдать на лагерной стоянке, когда, гуляя с заложенными назад руками около своей палатки, он очень часто заходил в нее, опрокидывал в рот рюмку, снова гулял, снова прикладывался и т. д. Полковой командир ингушей и осетин – русский фигурою и фамилиею, кажется, Панкратьев.
Я помещался в хате со стариком Скобелевым. У него была таратайка и пара лошадей, на которой мы выезжали утром, по выступлении войск. Догнав отряд, Скобелев надевал огромную форменную папаху, садился на лошадь, объезжал полки, здоровался с офицерами и казаками и затем опять садился в таратайку, причем папаха отправлялась под сиденье, а на смену ее вытаскивалась красная конвойная фуражка. Дмитрий Иванович командовал несколько лет тому назад конвоем его величества и носил конвойную форму. Когда мы подъезжали к деревням, он не забывал откидывать борты пальто и открывал свою нарядную черкеску, обшитую широкими серебряными галунами. Румыны везде дивовались на статного, характерного генерала. Я помню, что во время осмотра казаков главнокомандующим в Галаце Скобелев-отец поразил меня своею фигурою: красивый, с большими голубыми глазами, окладистою рыжею бородою, он сидел на маленьком казацком коне, к которому казался приросшим. Он говорил мне, что в нем много литовской крови.=
Дорогою мы обыкновенно или рассказывали что-либо друг другу, или Дмитрий Иванович рассуждал с кучером Мишкою о худо подкованной пристяжной, о ненадежной вожже или шине у колеса и т. п., чаще же всего спорил с ним, бранился, угрожал отправить его домой, а с переходом через границу даже и выпороть, так как “законы теперь уже другие”, – но угрозы эти так и оставались угрозами, что кучер Мишка очень хорошо знал. После, когда в отряд прибыл Михаил Скобелев, часто трудно было различить, о ком говорит, кого Дмитрий Иванович зовет – Мишу-сына или Мишку-кучера.
Мы ехали часто довольно далеко впереди войск; на полпути, выбрав хорошее место для роздыха войск, останавливались, добывали пресного или кислого молока, если по близости было какое жилье или поселение, и затем, с подходом офицеров, завтракали чем-нибудь холодным.
Я забыл упомянуть еще о трех постоянных членах нашего общества: капитане Генерального штаба Сахарове, с широким, сильно татарского типа лицом, исправлявшем при отряде должность начальника штаба, умном и остроумном человеке; штабс-ротмистре Дерфельдене, адъютанте главнокомандующего, состоявшем при отряде от его лица, славной русской натуре, несмотря на немецкую фамилию; наконец, штаб-ротмистре гатчинских кирасир Лукашеве, исправлявшем должность адъютанта штаба, если не ошибаюсь.
При отряде была и артиллерия Донского войска, но командир батареи держался отдельно, между своими офицерами. Командиры полков второй бригады так же, как и сам Вульферт, редко бывали с нами, потому что они шли сзади на один переход и являлись к Скобелеву только тогда, когда догоняли нас на дневках.
Нечего и говорить, что завтраки наши на лугу, под деревьями или под навесом румынской хаты были очень оживленны и веселы. После отдыха сигнал выступления, и затем снова наша таратайка, а за нею и отряд двигались вперед.
Мы останавливались иногда по дороге порасспросить и поболтать со встречным крестьянином или крестьянкою, причем сами немало смеялись нашим усилиям дать себя понять. “Вы не умеете, – говорил мне иногда Дмитрий Иванович, – дайте я объясню”, – и вправду, иногда добивался ответа. Раз мы свернули с дороги к румыну, пасшему стадо баранов, сначала обезумевшему от страха при виде генерала, но потом уверившемуся в наших мирных намерениях. Скобелев хотел купить барашка на племя, как он выражался. Отставив руки недалеко одна от другой, он начал блеять тоненьким голоском: “Бя! Бя-я!” Крестьянин понял, продал барашка и долго улыбался нам вслед. Мы возили этого барашка в тарантасе, но он вел себя так дурно и запакостил нас, что был сдан в обоз.
С приходом отряда в назначенное по маршруту место в хате, занимаемой Скобелевым, готовился обед. Условие было такое, что сам Д. И. поставляет провизию и повара, Тутолмин вино, Сахаров, если не ошибаюсь, чай и сахар, а мне предложено было заботиться о сладком, т. е. изюме, миндале, орехах и т. п. Скобелев всегда сам приготовлял салат, причем от беспрерывного пробования вся борода его покрывалась салатными листьями.
Для супа он посылал часто повара тихонько утащить молодых виноградных листочков из ближнего виноградника.
Случалось, однако, что обед почему-либо заставлял себя ждать, тогда мы старались убить время всяким вздором и шутками. Сочинялись стихи: “к повару”, “к обеду”, а затем и вообще приноровленные к обстоятельствам – к походу, к погоде и т. п. Вот, например, стихи, сочиненные на артельном начале; в них грехи четверых: самого генерала Скобелева, полковника Тутол-мина, капитана Сахарова и штабс-ротмистра Дерфельдена:
Скобелев – Не стая воронов слетается,
Тутолмин – Чуя солнышка восход,
Сахаров – Генерал в поход сбирается
Дерфелъден – И кричит: “Давыд Орлов!”А вот мои вирши, не оконченные, потому что Д. И. попросил прибавить что-нибудь о порядке и стройности в отряде, чем убил мое вдохновение, разумеется к лучшему:
Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.Старый Скобелев с полками,
Со донскими казаками
В Турцию идет,
В Турцию идет.Тут же тянутся кубанцы,
Осетины-оборванцы;
Бравый все народ,
Бравый все народ.Артиллерия тащится,
Может в деле пригодиться.
Как знать наперед,
Как знать наперед.А в тылу у всех драбанты,
Писаря и медиканты,
Словом, всякий сброд,
Словом, всякий сброд…»
Верещагин довольно подробно и откровенно писал о пребывании в Бухаресте:
«Подойдя к Букарешту, мы не вошли в самый город, согласно конвенции; к отряду выехал полковник Бобриков, бывший наш военный агент в Константинополе, вместе с несколькими румынскими офицерами, и обвели нас кругом, предместьями, в одном из которых, к стороне Дуная, мы разместились. В отряде очень недовольны были этим и находили условие не проходить городом унизительным, с чем, пожалуй, можно было и не согласиться.
Лишь только части расположились, как старику Скобелеву дали знать, что главнокомандующий проездом в Букареште и остановился в доме консула Стюарта. Почтенный Д. И. так обрадовался этому, что как сидел на кровати, так и вскинул ноги кверху, совсем вертикально. Он поехал верхом со своим значком из голубого шелка с большим белым крестом, который шел по Румынии впереди отряда.
Я ездил по городу с М. Д. Скобелевым и, признаюсь, немного совестился его товарищества: встречным барыням, особенно хорошеньким, он показывал язык!
Скобелев скучал бездействием; видно было, что ему не хотели доверить отдельного командования, и он сильно горевал о том, что не остался в Туркестане, где теперь, по слухам, готовилась демонстрация против Англии; мысль о походе в Индию не давала ему покоя.
“Дураки мы с вами вышли, что сюда приехали”, – говорил он оставившему вместе с ним службу в Туркестане капитану Маслову, тоже крепко порывавшемуся назад. Я советовал М. Д. не торопиться сетованиями. “Будем ждать, B. В., – говорил он, – я умею ждать и свое возьму”. Маслову я советовал связать свою судьбу с судьбою С., который, как и можно было быть уверенным, действительно сумеет занять свое место. Жаль только, что это случилось поздно, что его молодость так долго служила ему помехою и такому рысаку не было хода – исход кампании был бы другой.Скобелев-отец угостил нас всех обедом в гостинице Гюк, где и я остановился на время нашего роздыха в Букареште. Гостиница порядочная, не дорогая, как говорится, делавшая дела за это время; впрочем, не было, вероятно, человека в Букареште, который так или иначе не пользовался бы от русских; трактирщики же и содержатели гостиниц просто, должно быть, наживали состояния в это бойкое время.
В Букареште я познакомился с полковником Паренцовым, настоящим начальником штаба нашего отряда, должность которого исполнял C. Теперь он состоял при каком-то другом деле и не намеревался, по-видимому, присоединиться к нам».
После ранения, полученном на Дунае, Верещагин долго лечился, в том числе в госпитале в Бухаресте. А потом описал свое выздоровление в очерке «Литератор». И вновь Верещагин на полях сражений до победного конца.
На вопрос, ради чего он постоянно рискует жизнью, участвуя в сражениях по личному желанию, Верещагин ответил:
«Я захотел видеть большую войну и представить ее потом на полотне не такою, какою она по традиции представляется, а такою, какая она есть в действительности. Мне приходится выслушивать множество выговоров за ту легкость, с которой я пошел в опасное дело: они, военные, идут по обязанности, а я зачем? Не хотели люди понять того, что моя обязанность, будучи только нравственною, не менее, однако, сильна, чем их; что выполнить цель, которою я задался, а именно дать обществу картины настоящей, неподдельной войны, нельзя, глядя на сражение из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, болезнь, раны. Нужно не бояться жертвовать своею кровью, своим мясом, иначе картины будут не то…»
Рядом с ним рисовали В. Д. Поленов, А. Д. Кившенко, А. П. Боголюбов, Л. Ф. Лагорио, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, А. А. Попов, П. О. Ковалевский, Н. Н. Каразин и др. Но по мнению Светланы Капыриной («Василий Верещагин. Палитра мира и войны», 2018), «серия его полотен стала самой яркой страницей в истории батального искусства. Мощный по содержанию и художественному воплощению “Балканский цикл” открывал зрелый этап творчества мастера и демонстрировал новые грани его таланта. Центричность композиции, детализация и пестрота локальных красок остались в “Туркестанской” и “Индийской” сериях. На смену им пришли подчеркнуто вытянутый по горизонтали формат, асимметрия и активное построение планов, диагональные направления, лаконичные формы и цветовые тональные переходы. Балканские полотна были исполнены по типу натурных панорамных видов, на фоне которых разворачивались безжалостные сцены “театра военных действий”, без бутафории, фальши и ура-патриотизма. Вместе с тем картины, правдиво передающие “изнанку” войны, обнажающие “раны человечества”, говорящие о героизме больше, чем блестящие мундиры и победные знамена, выполнены без подчеркнутого натурализма и морально-назидательного императива. Отличительная особенность батальной живописи Верещагина на тему Русско-турецкой войны – выбор сюжетов, связанных чаще всего не с самим моментом военного столкновения, разгаром битвы, а с эпизодами, предшествующими сражению или следующими за ним. Художник, отстаивая принципы реализма, к этому термину добавлял определение “осмысленный”, подразумевая, что в его основе “лежат наблюдения и факты” и непременно присутствуют “идея” и “обобщения”».
Десять месяцев Верещагин провел на войне. Воспоминания о ней он заканчивал рассказом о случае в Чорлу, что близ Адрианополя:
«При отходе со станции вышел такой казус: мы уже двинулись, когда подбежал запыхавшийся болгарин, махавший каким-то письмом и кричавший: “Князь, князь, Адрианополь, Рейс!..” Я знал Рейса, немецкого посла в Константинополе, и понял, что болгарин вез что-либо от этого дипломата в нашу главную квартиру. Я велел остановить поезд, посадил болгарина и взял от него письмо, запретив ему говорить что-либо с кем бы то ни было, так как железнодорожные служащие, преимущественно австрийцы, уже, видимо, заинтересовались тем, что слышали. Когда мы поздно вечером приехали в Адрианополь, я велел болгарину идти в конак, а письмо передал генералу Игнатьеву, как раз входившему с Нелидовым во двор; подошедшего вскоре болгарина рекомендовал попечению Скалона, накормившего, напоившего его и представившего главнокомандующему.
Письмо оказалось большой важности: князь Рейс уведомлял конфиденциально нашу главную квартиру о вступлении в пролив английских броненосцев… У нас немедленно же решено было движение вперед к Сан-Стефано, а если англичане не остановятся, то и к Константинополю…
Приятели мои Струков и Кладищев все выпытывали, какую награду, какой орден я желаю получить… “Конечно, никакого”, – был мой ответ.
Когда я собрался ехать на следующий день, милейший Скалой передал, что его высочество желает, чтоб я принял “на память золотую шпагу”, но я поблагодарил и задал тягу… на железнодорожную станцию…»
Воспоминания о войне не давали ему покоя. «Не могу выразить тяжесть впечатления, выносимого при объезде полей сражения в Болгарии. В особенности холмы, окружающие Плевну, давят воспоминаниями – это сплошные массы крестов, памятников, еще крестов и крестов без конца». Вернувшись в парижскую мастерскую, приступил к «Балканской серии». Перед ним было 50 этюдов. Но в серию вошло около 30 большеформатных картин. Все наблюдения переплавлялись в единый образный строй, звучащий как мощная симфония. За 40 дней выставку в Петербурге в 1880 году посетило почти 200 000 человек (обычно хорошую выставку в столице посещало не более 50 тысяч – В. К.). А потом были Лондон, Париж, Вена, Берлин, Дрезден, Гамбург, Брюссель, Нью-Йорк… В числе картин этой серии «Пикет на Дунае», «Александр II под Плевной», «Скобелев под Шипкой», «Перед атакой», «Атака», «После атаки», «Павшие герои». «Победители», «Побежденные», триптих «На Шипке все спокойно».
Виктор Кушниренко, историк литературы